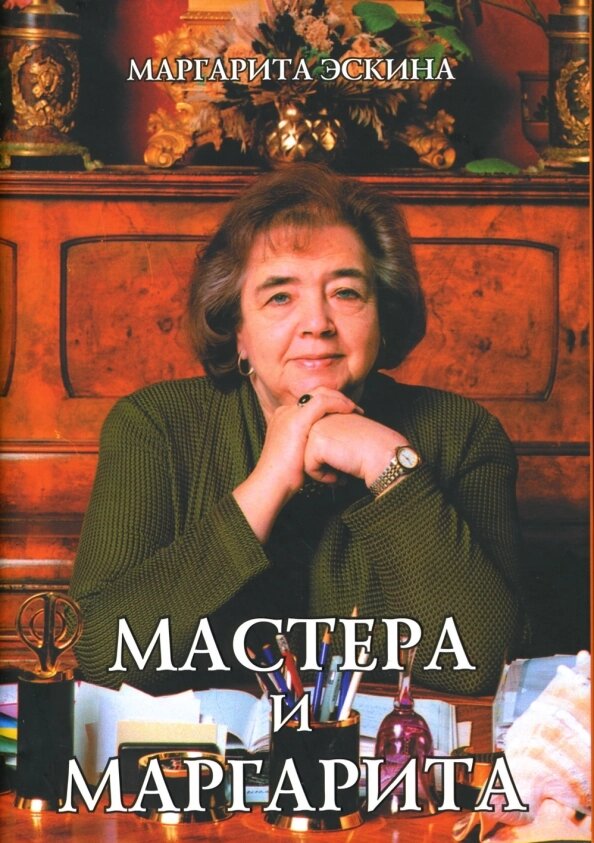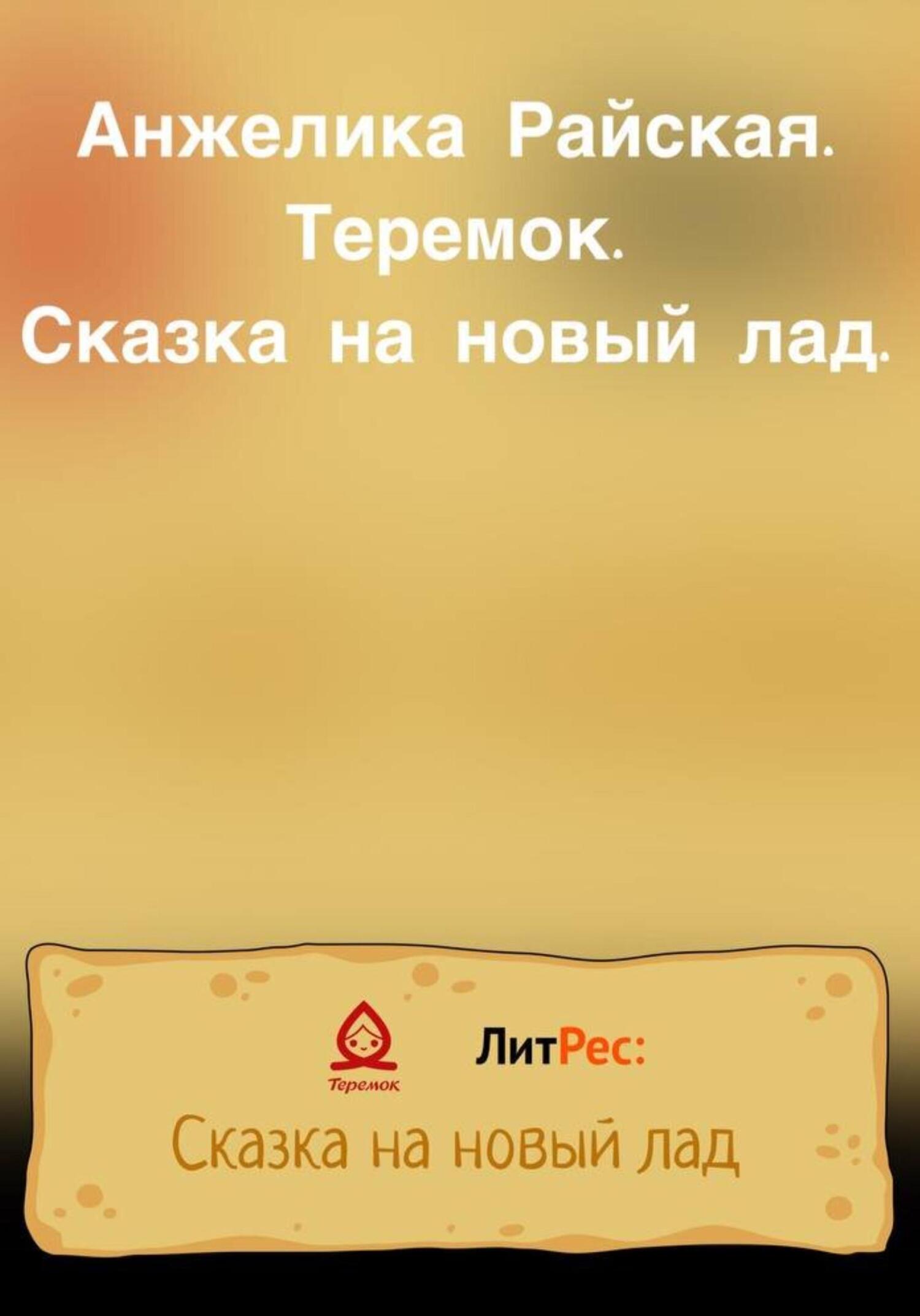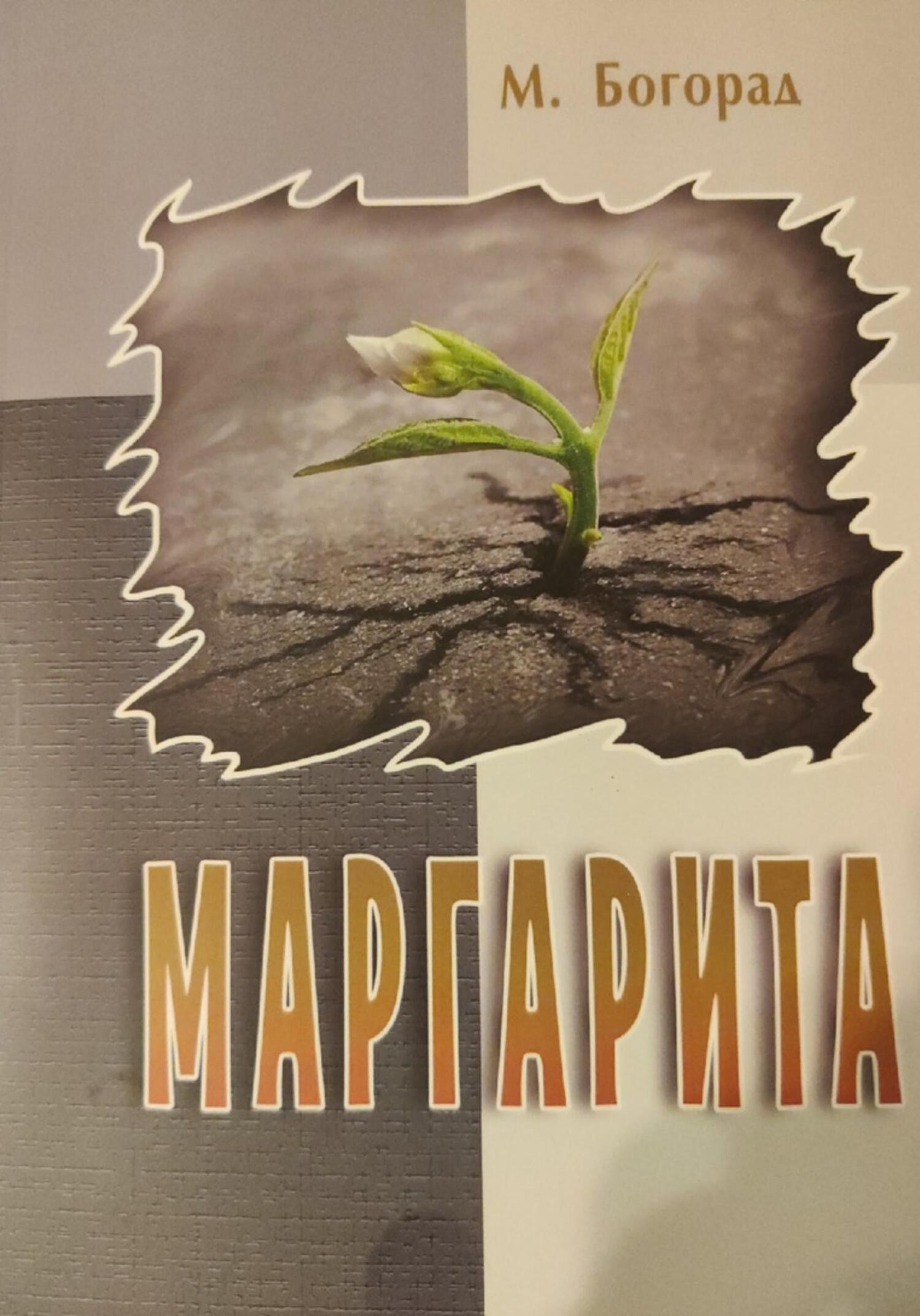сетку навеса, и смачно глотнул.
— За кукурузу! Как за живую! — отозвался Голобородько и даже смахнул скупую слезу.
— И давно вы так гуляете, хлопцы? — спросила я.
— Литра три! — гордо ответил Голобородько.
— Виталик, — представился собутыльник собкора. Схватил мою руку и попытался ее облобызать. Я машинально вырвала руку. Человек посерьезнел. — Виталий Анатольевич. Глава района. Меня там никто не искал?
Я посмотрела на них обоих с ненавистью, которая, как стекляшки в калейдоскопе, распадалась на профуканный шанс попасть в федеральный эфир, смутное недоступное журналистское будущее, которое только что стало еще смутнее и недоступнее, влажную духоту в исходящей потом замызганной коробчонке, чесотку от пыли пшеничных полей, досаду на весь этот жизнью забытый край, где никогда ничего не случается и не случится.
— Полностью разделяю твой взгляд, — отрезал Серега, поймав глазами мои глаза.
Мы сели обратно в «Оку». Я надела кожаные перчатки, спрятанные в бардачке на случай, когда руль раскаляется так, что до него невозможно дотронуться.
Впереди расстилалось бескрайнее поле. То самое пустопорожнее информполе, о котором мне говорил московский главред.
Но я не могла с этим смириться.
— Все. Поехали монтировать, — сказала я.
— Что монтировать? — скептически отозвался Серега.
— То, что наснимали.
Первые строки моего репортажа теперь звучали так: «Страда. Трудолюбивые хлеборобы бьются за урожай. И в эту нелегкую пору на Кубани пропала кукуруза».
Вслед за этим шла речь главы, которую Серега, проявив несвойственную ему прыть, записал во время нашей короткой беседы.
— Кукуруза уся сгорэла, мать ее ети. Прям беда.
На монтаже я попросила Серегу:
— Про мать вырежи. Это лишнее.
Репортаж получился, в общем-то, ни о чем, но в нем были горестные голоса казаков и казачек в потных синих трико, превосходные кадры уходящих за горизонт поднебесных подсолнухов, марево над расплавленной летней дорогой и весь тот южный несдержанный колорит, про который московская редакция, таки открыв со временем мой корпункт, всегда говорила: «Ну и красотища у вас там на югах, прямо трэш».
После эфира мне позвонила редактор Лариса.
— Не шедевр, но весьма неплохо. Еще пара таких сюжетов — и, может быть, действительно поставят тебя на корпункт.
К концу месяца мы наклепали уже шестнадцать таких сюжетов. Впереди маячила осень, и я заранее придумывала, о чем мы с Серегой будем снимать в сентябре.
Первого сентября, в день зарплаты, я обедала у Анжелики. Суши в ее суши-баре так и не появились, зато вся морозилка была забита хинкали, и куда-то пропала кошка.
— А вот ты, Анжи, хотела когда-нибудь сделать карьеру?
— Не знаю. Если муж сильно храпеть будет, я сегодня об этом подумаю.
— А если не будет?
— Если не будет — буду спать.
Анжелика подошла к зеркалу, захватанному жирными пальцами, поправила ногтем поплывшую тушь, задумалась. И вдруг сказала:
— Вот Серега теперь за вас всех будет делать карьеру. И за меня заодно.
— В смысле?
— Ну, он же в Москву сегодня улетел. После вашего сюжета с подсолнухами его позвали на московский телеканал. Больно подсолнухи были красивые. Он что, ничего тебе не сказал?
Жесткий хинкали застрял у меня в пищеводе. Я только что-то невнятное прохрипела в ответ.
— И мне не сказал, — задумчиво протянула Анжелика. — Кобелина.
Она быстро поправила лямки бюстгальтера, одним движением мягкой груди выдохнула мечты и воспоминания и снова схватила швабру, как верный спасательный круг.
Я не обиделась на Серегу. Серега ведь тоже знал, что в двадцать лет ума нет — и не будет, в тридцать лет детей нет — и не будет, в сорок лет денег нет — и не будет.
Спустя пару лет я сама навсегда уезжала в Москву. Собкор ТАСС Голобородько закатил на своей виноградной даче прощальную вечеринку, где Вовчик Болинов, давно уволенный за опрометчивые приставания к стенографистке, на чью родинку над ключицей положил свой дряхлеющий глаз сам новый мэр, всю ночь собственноручно варил хаш для моих друзей и знакомых, и Анита, недавно обритая наголо, приглашала меня порыдать у нее на груди, но мне что-то совсем в эту ночь не рыдалось.
Переехав, не сразу, но я позвонила Сереге.
Я слышала, что его почти уже взяли в штат федерального телеканала, он почти получил права, почти взял кредит на свой первый автомобиль и почти женился на настоящей москвичке.
Трубку взяла как раз она.
Всхлипывая, москвичка путано сообщила, что на прошлой неделе Сережа ночью встал с постели, не сказав ей ни слова, пошел в ванную и уже оттуда не вышел. Аневризма сонной артерии.
Детей у него не осталось. Денег, как и предсказывала отцовская мудрость, тоже.
Впрочем, до сорока Серега не дожил.
Когда мы с ним в последний раз мотались по Краснодарскому краю, был конец августа.
Перед осенью упоительные дороги кубанских станиц уже не узнать. Бирюзовое небо застит сизая дымка, голубые лиманы, поеживаясь, скалят черную глубину, казаки и казачки в потных трико давно погрузили в чужие фуры свои кавуны, пыхтящий комбайн сбрил всю налитую пшеницу, как районные эмчеэсники пышные бороды, оставив одни колючки щетины, и станичники, чуя скорую зиму по запаху сырости в теплых подвалах, заставленных синенькими и мочеными сливами, жарко, по-черному жгут на полях стерню.
Где подсолнухи, где любимчики неба, улыбаясь, глядевшие ему прямо в глаза? Стоят сморщенные, иссохшие, как старухи в черных платках на утомительных похоронах другой такой же старухи, темные головы на негнущихся шеях тянет к земле. Тусклое небо от них отвернулось, солнце не смотрит на них, и душной тревогой под ребрами замирает прозревшее сердце, только что разглядевшее за горизонтом свинцовую неизвестность… и в страхе и в тоске ждешь неминуемую осень…
Дядь Вачик
Сухумские пляжи перед закатом пьянят куда основательнее, чем московские клубы перед рассветом. Особенно если дядь Вачик с утра в настроении и вытащил из своей конуры десятилитровую бутыль с презервативом на горлышке, из-под которого пузырями свистит розоватая пена. Дядь Вачик стреляный — он знает, что сухумскому санаторию МВО, да в который еще понаехали журналисты, эти его десять литров — так, сухарик запить.
Солнце, как вызревший местный гранат, наливается соком низко над самой бухтой и вот-вот бултыхнется в нее, как тот же гранат на траву.
У меня подгорают бедра, ночью будут болеть. «Надо сходить в горы за подорожником», — думаю я.
Пахучие местные горы начинаются прямо за бухтой. Наверх, к лососевым ручьям, частоколом уходят реликтовые пицундские сосны, игривые лавровишни, мимозы, кудрявый каштан, рододендроны, а дальше, к суровым ущельям, — самшиты и мрачные буки.
Там,